
|
|
||

30:5. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров,
30:6. чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов.
30:7. Ревут между кустами, жмутся под терном.
30:8. Люди отверженные, люди без имени, отребье земли!
Книга Иова.
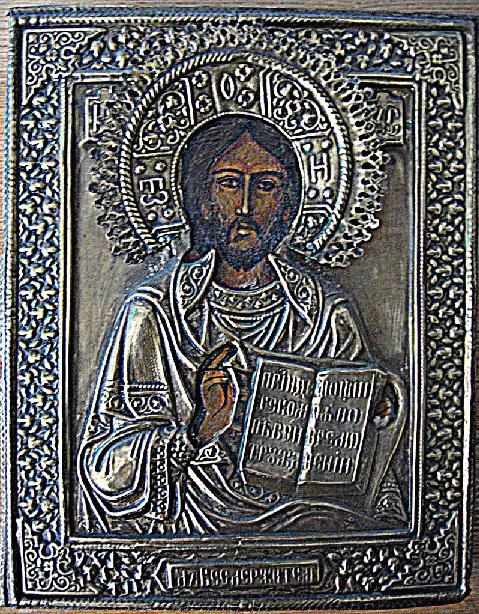
Когда в окно я посмотрел,
Там не было людей.
Лишь миллиарды желтых стрел
И тысяча чертей.
|