
Историческая поэма, документальный роман
1905 - 2015
(Москва - Санкт-Петербург - Карелия)
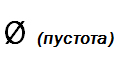
****
****
****
****
****
****
****
****
****
|
|
||
Две столицы: Москва и Санкт-Петербург. Два века: начало двадцатого века (1905-1918 гг.) и начало двадцать первого (нулевые, десятые). Две истории любви и связь поколений... Это роман о возможности берега за горизонтом, о счастливой геометрии судеб, о любви и одиночестве, о мире и войне, о борьбе и заблуждениях экзистенциального сознания и вере в Бога, в предначертанный путь, о времени и вечности, о мнимом бессмертии и истине генетической памяти. О современных романах, которые позабудут, и несгораемых письмах в грядущее. О книгах, предопределяющих судьбу: булгаковская Москва и Петербург Андрея Белого, библейская притча о блудном сыне и миф об отцеубийстве, призрак Сольвейг на берегу Онежского озера - как символ вечной женственности и Северная Венеция Казановы... Но главное - это роман о Севере, как о последнем ковчеге, ибо сказано было: "Если колыбелью человечества считается Юг, то последним пристанищем будет Север". О героях, ищущих смысл бытия за пределами рукописи, о том, что все истории земли обречены на бесконечные повторения, но всякий раз - иначе... Роман стал финалистом премии им. И.А. Гончарова, вошёл в "Короткий список" премии "Золотой Витязь", в "Длинный список" Бунинской премии в 2016 году. | ||

Историческая поэма, документальный роман
1905 - 2015
(Москва - Санкт-Петербург - Карелия)
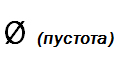
****
****
****
****
****
****
****
****
****