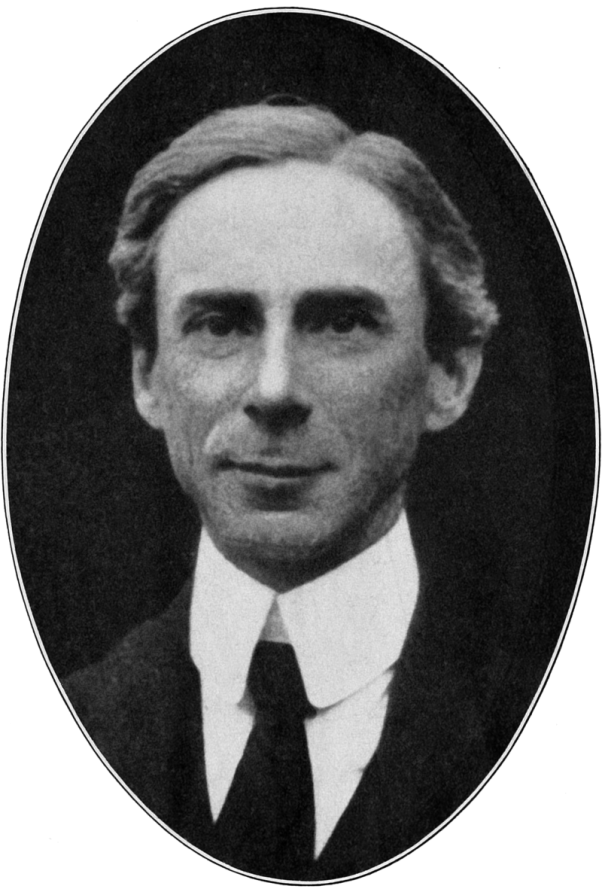Андрей Незванов et Russel Вertrand
О Власти
Power. A New Social Analysis

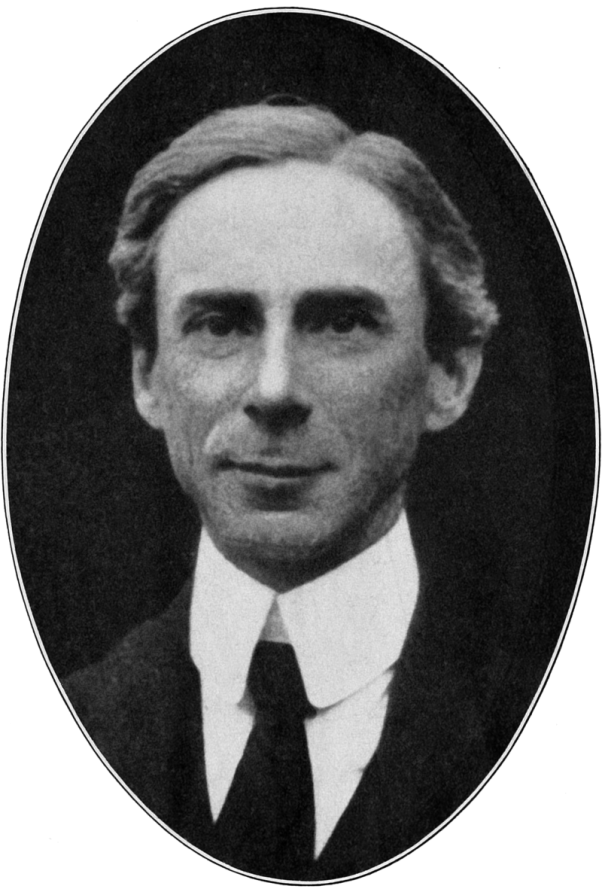
|
|
||
Книга Бертрана Рассела "О Власти", впервые изданная в 1938-м году, не была переведена на русский язык. Поэтому мы восполняем здесь этот пробел в нашем общем образовании. | ||
Андрей Незванов et Russel Вertrand
О Власти
Power. A New Social Analysis