подробнее>>
Начните знакомство с:
- Диалектика Гегеля 284k Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 2 (26/11/2025)
- Диалектика Гегеля 284k Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 2 (26/11/2025)
- Formal models of dialectics 2k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
 Brief explanations of some formulas or topics - appear when you hover over them.
Brief explanations of some formulas or topics - appear when you hover over them.
The image is scaled to fit the browser window. This allows you to choose a convenient size for the reader. However, you can also read it by clicking the Illustrations/appendices . In this case, the image size will be preserved on a small screen, and horizontal scrolling will appear.
And one more thing. This isn't an academic article. So I thought I'd include some gifs. But which ones? Few people are interested in mathematics, and few understand it. But almost everyone is interested in philosophy, but no one understands it (including me). These fields are so different that I wanted to find some rather... strange gifs, perhaps? I found the ones I could.- Иллюстрации/приложения: 8 шт.
- Formal models of dialectics 2k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Формальные модели диалектики 2k Философия, Естествознание
ENGLISH LANGUAGE- Иллюстрации/приложения: 9 шт.
- Формальные модели диалектики 2k Философия, Естествознание
- Беседы с Кантом и другими философами 132k Оценка:8.61*11 Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 11 (22/12/2020)
- Иллюстрации/приложения: 14 шт.
- Беседы с Кантом и другими философами 132k Оценка:8.61*11 Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 11 (22/12/2020)
- Космология Ньютона 24k Оценка:6.77*11 Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 6 (27/11/2025)
- У этой статьи есть математическое продолжение: Солнце. Статистика чисел Вольфа
ENGLISH LANGUAGE- Иллюстрации/приложения: 1 шт.
- Космология Ньютона 24k Оценка:6.77*11 Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 6 (27/11/2025)
- Newtonian Cosmology 2k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- RUSSIAN LANGUAGE
- Иллюстрации/приложения: 24 шт.
- Newtonian Cosmology 2k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Понятие и реальность 74k Оценка:8.23*4 Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 6 (01/01/2021)
- Иллюстрации/приложения: 1 шт.
- Понятие и реальность 74k Оценка:8.23*4 Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 6 (01/01/2021)
- Concept and reality 76k Оценка:6.00*4 Критика Комментарии: 3 (24/05/2018)
- На английский язык статью перевёл: Дундученко Виталий Александрович.
- Стихотворение Хлебникова перевёл: Семён Лившиц
- Иллюстрации/приложения: 1 шт.
- Concept and reality 76k Оценка:6.00*4 Критика Комментарии: 3 (24/05/2018)
- Не равны, но неотличимы. Такое бывает? 7k Философия, Естествознание Комментарии: 2 (06/12/2025)
- Представьте себе множество натуральных чисел. Где внутри множества находится каждое из этих чисел? На единственно возможном, чётко определённом месте. 1 есть минимум всего множества, 2 есть минимум всего "оставшегося" множества (без 1), и т.д. По индукции получаем единственное положение любого числа. И это очевидное следствие аксиом натурального ряда.
- А теперь представьте континуальную прямую. Где на ней находится число 8? А число π? Это зависит от того, где находится некая "исходная" пара чисел, например, (0,1). Отметив эту пару, мы регламентируем место положения всех чисел (т.е. - нужен нулевой отсчёт и нужен масштаб). Но не зная положения этой пары, мы даже не можем сказать, какое из двух вещественных чисел больше или меньше другого!
- Итак, натуральные числа все абсолютно отличаются друг от друга. А вещественные числа - неразличимы. Различимыми их делает только положения 0 и 1. Т.е. - их различия всегда относительны, локализованы относительно этой пары. Всё просто, не так ли? Нет, не так. Всё немного сложнее... Подробности можно узнать в статье. А ещё подробнее ситуация описана в моих статьях: "https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.00069" "https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.08053"
Или, на русском языке: "Понятие однородности" "Однородные термы и локальные элементы"
Смотрите также: "ORCID https://orcid.org/0009-0002-3637-9000"
- Не равны, но неотличимы. Такое бывает? 7k Философия, Естествознание Комментарии: 2 (06/12/2025)
- NewВещественные числа неразличимы между собой 1k Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 4 (29/12/2025)
Этого нельзя сказать о натуральных числах. Если у Вас на столе пять яблок, то их будет именно 5, независимо от начала и способа подсчёта; независимо от системы координат. Это вызвано прежде всего тем, что во всяком множестве натуральных чисел можно выделить (единственный) наименьший элемент.
Но совершенно иная ситуация возникает на вещественной прямой (подробности читайте в статье.). Фактически, это работает в точности как система координат,- но не в пространстве, а на прямой,- в одномерном случае. Именно поэтому мы можем создать линейку с произвольным масштабом и произвольной нулевой точкой отсчёта, а потом произвольно перемещать линейку в пространстве для проведения любых измерений.
Я здесь не открыл ничего нового - это известные в математике факты. Это называется изоморфной сопряжённостью. Нечто новое по этой теме я попытался найти в статьях: Uniformity and nonuniformity и Uniform terms and local elements
Или, на русском языке: Понятие однородности и Однородные термы и локальные элементы
Владимир Журавлёв- Иллюстрации/приложения: 1 шт.
Математика
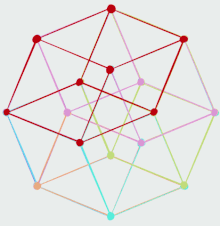 ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ- Идеи, изложенные в статьях: я попытался облечь в законченную математическую форму. Особо значительных результатов достичь не удалось, но некоторые (весьма специфические) проблески истины я всё-таки заметил. Излагать придётся достаточно долго. Ряд статей данного раздела посвящён этой тематике. Хочу сразу предупредить читателя, что моей целью не было общедоступное или увлекательное изложение (да ведь и не смог бы!), хотя все математические конструкции я пытаюсь строить "с самого начала". Хорошо было бы, если бы читатель имел представление об основах теории множеств, абстрактной алгебры и теории категорий. Вот интересная (или же - не очень интересная) литература, которую желательно (но необязательно) просмотреть перед прочтением статей:
Расёва, Сикорский "Математика метаматематики",П.Кон "Универсальная алгебра",Голдблатт "Топосы, категорный анализ логики",Ефимов Н.В. "Высшая геометрия" (разделы, по аксиоматике и проективной геометрии).П.Дж. Коэн "Теория множеств и континуум-гипотеза".Х.Нейман "Многообразия групп".Сами статьи я буду добавлять постепенно, в надежде на то, что спешить некуда…Речь идёт об изучении семантики тех математических понятий, которые считаются вполне ясными (а на самом деле они просто привычны!) и создании системы новых (как мне показалось, более гибких и ёмких) понятий. Итак, приступаем.- Impredicativeness, recursion, and the Big Bang or The ascent of the wolf, the goat, and the cabbage up the steps of the Hanoi tower 36k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Иллюстрации/приложения: 25 шт.
- Impredicativeness, recursion, and the Big Bang or The ascent of the wolf, the goat, and the cabbage up the steps of the Hanoi tower 36k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Непредикативность, рекурсия и Большой Взрыв или Восхождение волка, козы и капусты по ступеням Ханойской башни 37k Философия, Естествознание
- ENGLISH LANGUAGE
- Иллюстрации/приложения: 3 шт.
- Непредикативность, рекурсия и Большой Взрыв или Восхождение волка, козы и капусты по ступеням Ханойской башни 37k Философия, Естествознание
- Ханойские башни с арифметической точки зрения 3k Философия, Естествознание
- Мои работы на другие темы: doi.org/10.30970/ms.63.1.14-20 и здесь: V.M. Zhuravlov
- Иллюстрации/приложения: 14 шт.
- Ханойские башни с арифметической точки зрения 3k Философия, Естествознание
- 1. Базовые математические отношения 4k Философия, Естествознание Комментарии: 1 (02/01/2021)
- Иллюстрации/приложения: 24 шт.
- 1. Базовые математические отношения 4k Философия, Естествознание Комментарии: 1 (02/01/2021)
- 2. Понятие однородности 5k Философия, Естествознание Комментарии: 1 (15/12/2024)
- Иллюстрации/приложения: 26 шт.
- 2. Понятие однородности 5k Философия, Естествознание Комментарии: 1 (15/12/2024)
- 3. Неоднородность 3k Философия, Естествознание
- Иллюстрации/приложения: 16 шт.
- 3. Неоднородность 3k Философия, Естествознание
- Мультипликативная логика в арифметике 2k Философия, Естествознание
- В статье рассматривается мультипликативная арифметика как одна из моделей многозначной проективной логики. Доказывается, что замкнутые интервалы чисел в такой арифметике являются алгебрами Гейтинга. Найдены условия, при которых эти алгебры булевы. Проведена численная верификация утверждений статьи. Намечены пути обобщения для нормированных линейных пространств. MSC 2020: 03B50, 03B60.
- Иллюстрации/приложения: 1 шт.
- Мультипликативная логика в арифметике 2k Философия, Естествознание
- Неклассические логики 2k Естествознание
- В статье показано, что логика не всегда является синглетонной и не всегда имеет обычную трактовку отрицания. Предлагаются соответствующие обобщения логики. Рассматривается позитивная логика и многовариантные операции отрицания. Делается попытка отвлечься от фиксированных и абсолютных значений истины и лжи; многозначность логических значений трактуется как их относительность,- проективная логика.
- Иллюстрации/приложения: 1 шт.
- Неклассические логики 2k Естествознание
- Нестандартные последовательности 2k Философия, Естествознание
- Иллюстрации/приложения: 5 шт.
- Нестандартные последовательности 2k Философия, Естествознание
- Nonstandard sequences 2k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Иллюстрации/приложения: 4 шт.
- Nonstandard sequences 2k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Однородные термы и локальные элементы 3k Философия, Естествознание
- Иллюстрации/приложения: 12 шт.
- Однородные термы и локальные элементы 3k Философия, Естествознание
- Uniformity and nonuniformity 5k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Иллюстрации/приложения: 20 шт.
- Uniformity and nonuniformity 5k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Восхождение от конкретного к абстрактному 6k Философия
- В статье рассмотрены идеалы в моноидах, как способ создания нестандартной теории последовательностей. Вводится понятие ассоциативного идеала. Этот аппарат применяется в логике и теории категорий.
- Иллюстрации/приложения: 1 шт.
- Восхождение от конкретного к абстрактному 6k Философия
- Бесконечно однородные теории и различные способы их построения 4k Философия, Естествознание
- Иллюстрации/приложения: 17 шт.
- Бесконечно однородные теории и различные способы их построения 4k Философия, Естествознание
Моя переписка с Г.В.Чефрановым:
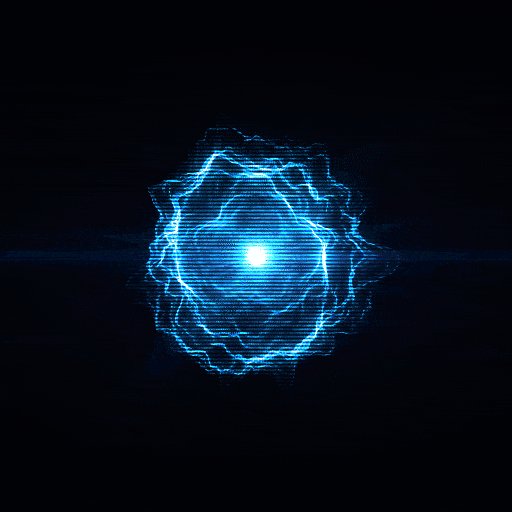 В 1988 - 1989 годах мне посчастливилось вести переписку с человеком, которого я считаю одним из лучших философов прошедшего века,- с Чефрановым Георгием Васильевичем [немного подробнее его биография приводится здесь; см. также статью А.П.Стахова ]. И вот, я решил эту переписку опубликовать.
В 1988 - 1989 годах мне посчастливилось вести переписку с человеком, которого я считаю одним из лучших философов прошедшего века,- с Чефрановым Георгием Васильевичем [немного подробнее его биография приводится здесь; см. также статью А.П.Стахова ]. И вот, я решил эту переписку опубликовать. О чём эти письма? Ну разумеется, о философии. Точнее, о той её "части", которую называют метафизикой. Во времена Ньютона и Гегеля (я имею в виду исторический период 1600 - 1900г) метафизика, уже изрядно отстающая от тех наук, которые принято считать точными,- относилась к этим наукам всё более пренебрежительно и повелительно. Думаю, что отчасти это объясняется чрезмерным засильем философов в тогдашней научно-образовательной системе. Но дело не только в этом. "Дьявол в деталях". Именно в нагромождении важных деталей и шло развитие специальных дисциплин. Для тогдашней философии эти детали казались достаточно мелкими и не имеющими значения на фоне общих принципов; к тому же и чисто физиологически одному человеку становилось всё труднее охватить даже свою узкую специальность, не говоря уже о её философском обобщении. Вот и возникла ситуация настоящей борьбы между общностью и точностью. Тогда и появилось знаменитое изречение, приписываемое Ньютону: "Физика, бойся метафизики". А чуть позднее - утверждение Гегеля о том, что воплощение идеи есть пародия на саму идею.
В итоге, уже в 20-м веке, философия потерпела в этой борьбе поражение. Истинным оказался принцип древней китайской науки, согласно которому во всяком предмете важно выделить главное, затем отвлечься от него и сконцентрироваться на деталях. Именно тогда и начала умирать метафизика, как наука о природе вообще (т.е. наука "обо всём", в отличии, к примеру, от экзистенциальной и других разновидностей философии, гораздо более узко и антропоморфно определяющих свой предмет). Гегель буквально опроверг, заморозил своё же диалектическое мышление, построив (на мой взгляд, достаточно надуманную) схему мироустройства. А марксизм даже эту схему заменил системой высказываний чисто бытового уровня,- банальных и бесполезных (вроде того, что "жизнь есть форма существования белковых тел". И в самом деле - всё, что мы привыкли называть живым, до сих пор состояло из белка). В сложившейся ситуации исследования Канта также не получили дальнейшего развития и уточнения.
А сейчас метафизики практически не существует. Трудно назвать наукой восхищённую констатацию гибкости и диалектической "сумасбродности" современной физики и математики, которые на самом деле просто тонут в своём же собственном формализме, практически не задумываясь над философскими проблемами. Между тем философы этот формализм не совсем понимают,- в силу его специализированной сложности (отягощённости всё той же точностью). Хочу, однако же, обратить внимание на одну простую вещь. Любые детали становятся просто бессмысленными, если они не концентрируются в принципах, их обобщающих. Другое дело то, что принципы и детали могут быть связаны не так тривиально, как нам ранее казалось.
Чефранов был одним из немногих философов, пытавшихся возродить метафизику. Имея и физико-математическое, и философское образование, он хорошо понимал необходимость этого. Наша переписка началась с моего анализа его книги: "Бесконечность и интеллект". Это книга, которая и сейчас нисколько не устарела и не потеряла своей актуальности. Далее мы обсудили ряд вопросов физики, математики, теории информации. Так сложилось ещё с древних времён, что беседа, диалог,- одна из наиболее продуктивных форм философского исследования. Именно так я и отношусь к нашей переписке.PS: Вопросы метафизики достаточно сложны,- особенно, когда такие исследования переходят в области более конкретных наук. Некоторые идеи и разработки людей, лично знавших Чефранова, могут вызвать интерес. В математике это работы Алексея Петровича Стахова. В социологии см. статьи Виктора Борисовского.
- Мой анализ книги "Бесконечность и интеллект" 98k Оценка:7.20*8 Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 13 (22/12/2020)
- В разделе "Математика" я пытаюсь развить идеи, изложенные здесь,- в моей переписке с Чефрановым.
- Ответ Чефранова 23-01-1988 32k Оценка:9.73*6 Философия, Естествознание Комментарии: 5 (25/05/2018)
- Ответ Чефранова 23-01-1988 32k Оценка:9.73*6 Философия, Естествознание Комментарии: 5 (25/05/2018)
- Чефранов 5-08-1988 18k Философия, Естествознание
- Чефранов 5-08-1988 18k Философия, Естествознание
- Моё письмо 6-01-1989 15k Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 3 (05/10/2013)
- Моё письмо 6-01-1989 15k Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 3 (05/10/2013)
- Чефранов 15-02-1989 12k Оценка:10.00*3 Философия, Естествознание
- Чефранов 15-02-1989 12k Оценка:10.00*3 Философия, Естествознание
Вероятность и Статистика:
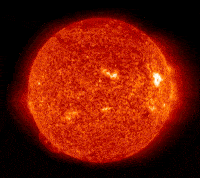 Что такое случай? Что такое закон? Как их моделировать математически? Как эту модель применить в математической статистике? Я попытался показать, что эти вопросы только кажутся решёнными, а на самом деле они запутаны ортодоксальной догматикой и устоявшимися предрассудками. Сначала мы это рассмотрим на примере сонечных пятен (числа Вольфа). И потом, если повезёт, будем продвигатьсядальше.
Что такое случай? Что такое закон? Как их моделировать математически? Как эту модель применить в математической статистике? Я попытался показать, что эти вопросы только кажутся решёнными, а на самом деле они запутаны ортодоксальной догматикой и устоявшимися предрассудками. Сначала мы это рассмотрим на примере сонечных пятен (числа Вольфа). И потом, если повезёт, будем продвигатьсядальше.
- Солнце. Статистика чисел Вольфа 10k Оценка:10.00*3 Философия, Естествознание Комментарии: 1 (10/12/2024)
- Статистика солнечных пятен. Растёт ли активность Солнца? Прогнозы. Вероятность, статистика и предсказания вообще.
- Иллюстрации/приложения: 52 шт.
- Солнце. Статистика чисел Вольфа 10k Оценка:10.00*3 Философия, Естествознание Комментарии: 1 (10/12/2024)
- Wolf Numbers and Statistics 4k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Иллюстрации/приложения: 18 шт.
- Wolf Numbers and Statistics 4k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- Рост солнечной активности 4k Философия, Естествознание
- ENGLISH LANGUAGE
- Иллюстрации/приложения: 2 шт.
- Рост солнечной активности 4k Философия, Естествознание
- Increased solar activity 4k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
- RUSSIAN LANGUAGE
- Иллюстрации/приложения: 2 шт.
- Increased solar activity 4k Философия, Естествознание, Foreign+Translat
Связаться с программистом сайта. - Мой анализ книги "Бесконечность и интеллект" 98k Оценка:7.20*8 Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 13 (22/12/2020)
- NewВещественные числа неразличимы между собой 1k Критика, Философия, Естествознание Комментарии: 4 (29/12/2025)
 Об авторе:
С моими работами можно ознакомиться здесь:
Об авторе:
С моими работами можно ознакомиться здесь: